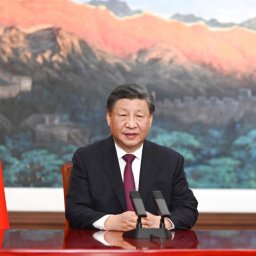Заметки на полях новой книги Александра Куприянова
Вместо предисловия
 Сразу скажу, что это не рецензия в прямом смысле слова. И не профессиональное мнение эксперта. Скорее — отзыв коллеги по газетному цеху, делающего только первые шаги в литературном творчестве. А публикуемые здесь разрозненные записки — не более, чем подражание авторскому принципу калейдоскопа. Разве что без отточий.
Сразу скажу, что это не рецензия в прямом смысле слова. И не профессиональное мнение эксперта. Скорее — отзыв коллеги по газетному цеху, делающего только первые шаги в литературном творчестве. А публикуемые здесь разрозненные записки — не более, чем подражание авторскому принципу калейдоскопа. Разве что без отточий.
Сразу и не разберешь…
В предисловии к книге под броским названием «Гамбургский симпатяга» Куприянов определяет написанное опусом, но не в значении «поделка», а как нечто, не имеющее плана, сюжета и даже жанра. И в самом деле с ним, жанром, происходит какая-та путаница. В аннотации к книге издатель позиционирует детище Куприянова как роман, на презентациях (сам слышал) его нередко называют повестью, автор же — «не совсем повестью, написанной в стиле мовизма» (с французского — плохое письмо). И пойди разберись, что на сей раз явил миру писатель: «ростки воспоминаний, похожие на искры костра», «поток ассоциаций, бессвязно возникающих в памяти» (А.И. Куприянов) или «неведому зверушку» (А.С. Пушкин).
Мовизм, по Куприянову, — метод калейдоскопа, придуманный им еще в студенчестве. Это собранные в кучку пространство, время и люди. Камешки событий, осколки воспоминаний, отрывки признаний. А еще — запахи. Запах полыни в зарисовке о поэте Симонове, запах детства в воспоминании об интернате №5, запах затянувшегося энуреза у одноклассницы Вальки в эпизоде о детской влюбленности. Всю эту мешанину, учит Куприянов, закладываешь в калейдоскоп… Крутишь волшебную трубочку. Люди, скамейки, здания и фонари складываются в картинки. «Картинка быстро меняется, но цветные камешки цепляются друг за друга и образуют новую картинку…»
Разговор на вечную тему
Что такое любовь? Этот вопрос человечество задает со времен появления Адама и Евы, но, похоже, еще долго не найдет однозначного ответа. Автор «Симпатяги» не стал исключением и тоже обратился к вечной теме. И мне его виденье, точнее — чувствование первой любви определенно нравится. «Первая любовь — как снежинка, летящая из черной пропасти ночного неба на розовую ладонь негра, который сегодня впервые увидел снег». После такого определения я бы поспорил с Юрием Лепским, который уронил как-то раз адресованные Куприянову слова: «Да ты, парень, никого не любил!». А как же географичка Галия? А Валька конопатая? А та загадочная, по описаниям автора, первая любовь, затерявшаяся где-то на Островах Зеленого Мыса? Острова уже успели стать Республикой Кабо-Верде, а первую любовь влюбленный Куприянов вспоминает до сих пор.
Немного о деталях
 В книге Куприянова, кажется, можно прочитать обо всем: о происхождении кримплена, из которого (до сих пор?) обивают диваны; о зависти и гордости; о нотификации и частной собственности; о королевских приемах и скромных ужинах в графстве Норфолк… Наконец, о злополучном лацбанте на матросских штанах, который, якобы, придумал сам Петр Первый «дабы (матросы эти. — Л.А.) не позорили флот российский». Деталь, и вправду, очень занятная, оцените, пжст, сами.
В книге Куприянова, кажется, можно прочитать обо всем: о происхождении кримплена, из которого (до сих пор?) обивают диваны; о зависти и гордости; о нотификации и частной собственности; о королевских приемах и скромных ужинах в графстве Норфолк… Наконец, о злополучном лацбанте на матросских штанах, который, якобы, придумал сам Петр Первый «дабы (матросы эти. — Л.А.) не позорили флот российский». Деталь, и вправду, очень занятная, оцените, пжст, сами.
Картинки в калейдоскопе Куприянова меняются столь же стремительно, сколь и неожиданно. На одной странице могут соседствовать совершенно не равнозначные люди. Например, предатель Виктор Суворов, который, как клянется автору, не сдал ни одного нашего человека за границей. И — географичка Галия, в которую автор был влюблен еще школьником.
Возникают и неожиданные предметы типа линотипа… Вы хоть знаете, что за зверь такой? Лет 30 назад написанные журналистами строчки, прежде чем лечь на газетные полосы, отливались из расплавленного гарта — смеси свинца и сурьмы. А делали эту, считавшуюся вредной работу женские (в основном) пальчики с помощью тех самых чудо-машин — линотипов.
В общем, нескончаемая череда образов и вещей, событий и действий, чувств и настроений. То взлет, то посадка. То холодно, то жарко. То весело, то грустно.
И какой бы узор в итоге ни выстреливала волшебная труба на кончике калейдоскопа, мне почему-то слышался еще и шум прибоя. Иначе, наверно, и быть не может, если героем повествования выступает сын мичмана Тихоокеанского флота. В кителе с золотистыми погонами на плечах. С усами на мужественном лице и кортиком у бедра. Так и вижу их вместе с мамой-учительницей в крепдешиновом платье, танцующих танго. И Шурку, поглядывающего на родителей полными счастья глазами… О том, что их счастье было недолгим, говорить не хочу. Пусть остаются счастливыми из счастливых! Пусть замрут их фигурки, как в старой детской игре: «Море волнуется — раз, море волнуется — два…»
Михалычей много, Лупейкин — один
То и дело в повествовании Куприянова возникают «воспитатель Лупейкин с дебаркабера». Такие же Лупейкины наверняка встречались на пути у каждого из нас — в детстве ли, в юношестве ли. Только назывались они Михалычами, Петровичами или, на худой конец, «дядь Васями». Пусть не с дебаркабера, как куприяновский Лупейкин, но с фермы, полевого стана или заводского цеха. Увы, не многие из нас, спустя десятилетия, поминают своих наставников хоть раз в жизни. У автора же в его калейдоскопе Лупейкины стеклышки составляют едва ли не половину возникающих узоров. Вот и думай после этого, опус ли родил Куприянов или полноценный роман.
Исповедь как проповедь
Несколько раз в разных местах книги автор напоминает, что пишет исповедальную прозу. Но исповедуют, насколько знаю, только грехи. И в них же исключительно каются. Это — если в церкви.
Помню, когда впервые оказался в храме наедине со священником и лежащими на аналое Крестом и Евангелием, я стал каждый озвученный грех объяснять обстоятельствами непреодолимой силы, подчеркивая, что совершал их без злого умысла. И священник всякий раз меня приструнивал: «Вы начинаете оправдываться». А под конец отпустил — нет, не грехи, а меня самого — учиться их отмаливать.
Так вот, я считаю, Куприянов не кается в прямом смысле слова, потому что нет объектов покаяния, тех самых грехов. Во всяком случае, он их не называет, как делают это исповедующиеся перед священником прихожане. И по этой же причине не раскаивается. Его исповедь — особая, другого замеса. Она, скорее, утешительно-наставительная проповедь (их различают аж 5 видов), на которую он — с учетом более чем 70 прожитых лет и тысяч пройденных дорог — имеет, думаю, полное право.
А вообще, достаточно и того, что он откровенен перед читателем. Во всяком случае, о своем характере говорит без обиняков: «Мучил всех своей навязчивой дисциплиной», «бываю криклив и заносчив». Один из коллег, работавший с Купером в «Родной газете», рассказывал, что он появлялся на работе раньше всех и при входе в редакцию самолично контролировал опоздавших.
Взялся за гуж…
Сколько знаю Куприянова, столько же диву даюсь: и как ему удается тащить на себе воз и маленькую тележку?! Где воз, в моем понимании, — газета с кучей проблем выживания на рынке, а тележка — писательство.
Возникает и такой вопрос: что для Куприянова важнее в этой не очень-то сладкой парочке? Не знаю, как ответил бы сам Купер, задай я ему этот вопрос. Предполагаю, однако, что он отдан обеим.
А вот на вопрос, когда Александр Иванович успевает строчить свои книги (другого слова не подберешь), он ответил сам во время очередной «встречи в верхах» — то бишь, на 3-м этаже дома №14 по Бумажному проезду, где располагается редакция руководимой Куприяновым «Вечерки». На некоторое время она заменила нам, выходцам из «Комсомолки», легендарный Шестой этаж, на котором располагалась родная газета.
«И что же ответил Куприянов?» — не терпится узнать читателю. А ничего особенного. «Ежедневно встаю в 4–5 часов. И пишу. Потом еду на работу. И снова пишу». Пишет, заметьте, в ярославской электричке, на которой удобно добираться до офиса.
Представляю, как, отрываясь от клавиатуры планшета, Куприянов бросает взгляд в окна, за которыми, как в калейдоскопе, меняются картинки. Но видит он не подмосковные пейзажи, а дальневосточные деревни с косенькими крышами, как и его, затерявшееся «далеко на Амуре» село. Шлепающий лопастями по реке колесный пароход «Молотов» (иные из нас только на картинках такой и видели). Или также шлепающую, но уже хвостами, рвущуюся на нерест кету.
Есть, впрочем, еще один секрет, о котором писатель «проговорился» в «Симпатяге»: он специально не устанавливает WhatsApp на смартфон и дважды в неделю (в эти дни, наверно, и пишет) отключает телефон.
Предложения рождают спрос?
Рассуждения Куприянова о писательском труде и вообще — о литературе, не кажутся случайными для книги о себе и профессии и, тем более — категоричными. Ну разве не правда, что «воспитательная роль литературы», как и громкое определение «писатели — инженеры человеческих душ» — большое преувеличение»? Что все эти реализмы, модернизмы, символизмы и прочие так называемые направления придуманы, лишь бы рассортировать писателей по принципу близости к власти?
Эти рассуждения, повторяю, не случайны по той простой причине, что и автор настоящего «опуса» — полноправный участник литературного процесса. Но при этом не очень-то стремится быть «привязанным» хотя бы к одному из названных течений. А в них и заблудиться можно! Одного реализма вон сколько: критический, метафорический, магический. Не говоря уж о сюрреализме…
А на книжных развалах тем временем все больше переливающихся глянцем всяких там фэнтези, авантюрных романов и, конечно же, боевиков. Спрос рождает предложение. Или — наоборот?
Все интернатовские — необыкновенные
Биографичен ли «Гамбургский симпатяга»? Безусловно. Чего не скрывает и сам автор. С единственной оговоркой, что в «опусе» он герой реальный, а, скажем, в повести «Золотой Жук», переименованной по совету самого Виктора Астафьева в «Жук Золотой», он — просто Шурка. Обыкновенный пацан из интерната, чье детство, как и детство автора, не было безоблачным и радужным. Хотя всех интернатовских Куприянов называет НЕобыкновенными. Отсюда, из этого определения, возможно, и проистекает необыкновенность произведения экс-интернатовца Куприянова?
Это даже не вопрос. Это, мне кажется, данность. Читая «Симпатягу», я ловил себя на мысли, что существует и стало незыблемым некое золотое правило. Почти все прошедшие детдом или интернат писатели в той или иной степени автобиографичны в своем творчестве и, как правило, совестливы и честны. Окопная правда того же Астафьева, бывшего детдомовца, в романе «Прокляты и убиты», взрывает, по выражению критиков, нервы и сердце, переворачивает сознание.
Самым известным произведением Анатолия Приставкина, оставшегося круглым сиротой в самом начале войны, стала автобиографическая повесть «Ночевала тучка золотая». При этом мир сиротского детства, который едва его не погубил, писатель называл добрым и родным, призывая не отвечать на зло злом.
Наконец, более близкий к нам по возрасту Георгий Пряхин, выходец из «Комсомолки», стал неожиданно знаменитым, опубликовав в «Новом мире» автобиографическую повесть «Интернат», которую весьма высоко оценил сам Чингиз Айтматов. И в «Симпатяге» Куприянов тепло вспоминает о Пряхине как о человеке, который «обессмертил наши с ним интернаты». Они и родились в местечках с похожими названиями: Пряхин — в селе Николо-Александровское Ставропольского края, а Куприянов — близ Николаевска Хабаровского.
«Единственное мне оправдание…»
Вышло так, что метод калейдостопа — неожиданно даже для Куприянова, его породившего, не менее изящно охарактеризовал в своих «Записках безбилетника» Андрей Иллеш — блистательный репортер, с которым Купер сплавлялся в одной лодке. Причем сделал он это за 12 лет до выхода «Гамбургского симпатяги», считай — перед самой кончиной.
«Откуда, зачем и почему именно эти сюжеты — не отвечу. Не знаю и понять того не смогу. Как не могу объяснить неведомую последовательность ничем, на первый взгляд, не связанных между собой сюжетов. Но есть, определенно есть между ними связь. Ибо в сумме они образуют из разбитых кусочков зеркала сравнительно большой кусок. В него и заглянуть можно. Вот я и попробовал».
Сегодня Куприянов откровенно сожалеет, что в свое время не счел возможным опубликовать в своей газете записки друга, ибо увидел осколки Иллеша разрозненными. «А ведь мог бы…» — сокрушается теперь автор «Симпатяги», написанного тем самым методом.
«Сам того не зная, Иллеш тоже был мовистом, — пишет Куприянов. — Единственное мне оправдание…»
Добровольное признание в совершенных ошибках всегда дается с трудом. Но Куприянов спешит это сделать. Не только по отношению к Иллешу, но и к другим гамбургским симпатягам, как автор называет тех, про кого написал в новой книге. Чтобы не опоздать…
Поистине, не столь важно, когда именно следует говорить о сокровенном.
Главное — сказать.
В этом, возможно, и кроется суть исповедальной прозы Куприянова.
Леонид АРИХ
P.S. Почему «Гамбургские стеклышки»? — спросит дотошный читатель, указывая на вынесенный к моим заметкам заголовок. «А почему тогда «Гамбургский симпатяга»? — вопросом на вопрос отвечу я. Ведь даже автор одноименной книги, пытаясь объяснить этимологию этого словосочетания, до истины, кажется, не докопался. Так что пусть и «Гамбургские стеклышки» остаются подражанием Куприянову, хотя особой тайны в них нет.
Не вырубить топором
Крылатые выражения из «Гамбургского симпатяги»
• «Человек себя строит, а не фотошоп»
• «Становясь на время блистательным Алексом, нужно помнить про деревенского Шурку»
• «Голос с неба звучит редко. Важно не пропустить его»
• «Если постоять, хоть и секунду, рядом с великими, уже становишься чуточку лучше»
• «Не самый плохой дар — делиться прекрасным»