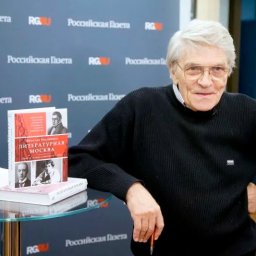Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу…
(Продолжение. Начало — в № 28, 2014 г.)
5. «Благая весть…»
Она впервые плакала на людях. Слезы текли, даже когда зажгли свет. Платка не было и она, уже мать двоих детей и известный поэт, не стесняясь, зло утирала щеки кулаком. В каком ряду сидела, не пишет, но случилось это в «Синема», в нынешнем кинотеатре «Художественный».
Крутили ленту про Жанну д’Арк. «Она немножко напоминала меня, — пишет Цветаева, — круглолицая, с ясными глазами, сложение мальчика. И моя повадка. Смущенно-гордая». Узнавание душ… Жанна — «вот мой дом и мое дело в мире, все остальное — ничто!» — напишет в дневнике после фильма. Через год, в 1920-м, допишет: «Литература? Нет! Все книги мира, чужие и свои, отдам за один, один маленький язычок костра» Жанны!..
Цветаева. Из «Записной книжки № 5»: «Вчера, возвращаясь домой по Арбату, было так черно, что мне казалось: я иду по звездам… Я — бродячая собака. Я в каждую секунду своей жизни готова идти за каждым. Мой хозяин — все и — никто… Я, конечно, кончу самоубийством, ибо всё мое желание любви — желание смерти. Это гораздо сложнее, чем “хочу” и “не хочу”… Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому — в самоубийстве — тело — единственный герой… Героизм тела — умереть, героизм души — жить…»
Жить! Это написала, когда само существование ее превращалась в тихую борьбу с зажатым ртом. В немое кино. В триллер — дикий и бессловесный.
«…Мама! Я не могу спать! У меня такие острые думы!.. — теребила ее шестилетняя дочь Аля. — Ты замечала, что горе — уютное? Какой-то круг…» «Уютное горе». Можно было бы улыбнуться лепету ребенка, если бы не знать, какими острыми были думы в том памятном 1919-м у ее матери — у Цветаевой.
Пик несчастий наступил к Вербной субботе. Накануне в одночасье она потеряла старинную овальную брошку, потом башмаки (сожгла ненароком), ключ от дома и последние 500 рублей. 500 р. — это 50 фунтов картошки, или почти башмаки, или на худой конец калоши плюс 20 фунтов картошки. В дневнике запишет: «Я… совершенно серьезно — с надеждой — поглядела на крюк в столовой. — Как просто!..» И какой соблазн? А уже в пасхальную ночь, убитая людским и дружеским равнодушием, «пустотой дома и пустотой сердца», скажет Але: «Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, — нечего лезть к Богу… У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет — а ляжем с тобой спать!» — «Да, конечно, милая Марина! — кинется к ней Аля. — К таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда?» И обе легли спать на единственную кровать, обе, как были — в платьях. Аля заснула, а Цветаева «жгла себя горечью» первой в жизни Пасхи «без Христос Воскресе». Она так старавшаяся всю зиму превратить быт в бытие: и дети, и очереди, и служба, и топка, и иней на обоях, и каша в самоваре, и три пьесы — «и столько стихов — и такие хорошие — и ни одна собака…»
Что ж, пусть поспят… А я расскажу о единственной хорошей новости, полученной ею за последние полгода, о ее муже, о Сергее. Тоже, кстати, триллер, и тоже бессловесный, ибо почти никому в красной Москве не могла она рассказать о нем — о своем юнкере, который сражался на юге в Белой армии… Но однажды и — как раз в Благовещенье, в пустой и холодной квартире в Борисоглебском, в доме, снятом с Сергеем еще в 1914 году и когда-то любовно обставленном, вдруг раздался поздний телефонный звонок. Звонил Кандауров, художник, знакомый семьи:
— Марина Ивановна, я получил известия из Крыма, — он взял паузу, — и должен вам сказать, что Сережа…
«Убит», — мысленно подсказала она ему.
— Жив и здоров и просил Вам кланяться…
«Минут пять спустя начинаю плакать, — пишет. — Точное чувство до краев переполненных глаз… Колени дрожат. Чувство легкой… тошноты. Благовещенье! — Благая Весть! — Недаром это мой любимый праздник!..»
Увы, через два года в театре Таирова под всеобщий радостный вскрик зала ее сердце точно так же «окаменеет от страха»: «Убит? Жив? Ранен?..»
Из дневников Цветаевой за 1919 год: «Сила человека часто заключается в том, чего он не может сделать, а не в том, что может… Мое “не могу” — некий предел… “Не могу” священнее “не хочу”… Мое “не могу” — это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям… все-таки не хочет… Я говорю о смертном “не могу”, о том… ради которого даешь себя на части рвать… Не могу… даже если весь мир вокруг делает так и это никому не кажется зазорным… Утверждаю: “не могу”, а не “не хочу” создает героев!..»
Сергей «не мог» переступить через себя и не оказаться на Дону, в стане белых. Как «не могла» и она (хоть «на части» рвите!) встать на сторону большевиков. Она, жадно ждавшая революции в 1907-м, звавшая пожар восстания даже на родительский дом («Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? С каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!»), после 1917-го четко выскажет, может, самую великую мысль свою про все прошлые и даже будущие революции: «Сколь восхитительна проповедь равенства из княжеских уст, — скажет, — столь омерзительна из дворницких…» «Князья» и «дворники» здесь, конечно, условные, она никого не хотела унизить, но для непонятливых пояснила: «Две расы. Божественная и скотская. Первые всегда слышат музыку, вторые — никогда. Первые — друзья, вторые — враги…»
Сергей, окончив юнкерскую школу в Нижнем Новгороде, а затем — ускоренную школу прапорщиков в Петергофе, после Февральской революции посещал занятия в Александровской офицерской академии и одновременно — командиром роты — служил в 56-м пехотном запасном полку, который стоял в Покровских казармах: (Москва, Покровский бул., 3). Друзьям, сослуживцам, знакомым, даже случайным девушкам, которых вызывался проводить до дома, не без пафоса твердил: «Россия должна спасти мир от «ига духовного рабства», а русский народ — избранник и пойдет впереди всего человечества…» Пока однажды, точнее — утром 26 октября 1917 года, развернув за одиноким чаем газету (Марина была в Крыму, в Коктебеле), не увидел вдруг жирно выделенной строки на первой полосе: «Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города…»
Кровь бросилась ему в голову. «То, что должно было произойти со дня на день и мысль о чем так старательно отгонялась всеми, — вспомнит в очерке об этом дне, — свершилось… Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется… Их поражение казалось мне несомненным…» Предупредив сестру, он торопливо нацепил шашку, машинально сунул в боковой карман шинели револьвер «Ивер и Джонсон» и полетел в полк, в казармы, где, конечно, должны были уже собраться офицеры. В трамвае, пишет, дрожал, как в лихорадке и, не перенеся всеобщего молчания, вытащив газету, на весь вагон вдруг громко сказал: «Посмотрим. Москва — не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы…» Никто не отозвался. Лишь старик, напротив, тихо шепнул: «Дай-то Бог!»
Что было дальше, читать без дрожи нельзя. Уйдя с бестолкового офицерского собрания, он и еще один прапорщик стали демонстративно срывать со стен только что расклеенные воззвания Совдепа, призывающие следовать за Петроградом. На них — двух «золотопогонников» в длинных кавалерийских шинелях и звенящих шпорах — смотрели с ужасом. На углу Охотного и Тверской у тумбы с объявлением гудела уже целая толпа: солдаты в расхристанных шинелях, с винтовками и без, рабочие, испуганные горожане. Увидев офицеров, все, пишет он, «как по команде смолкли». Сергей, чуя холодок, скользнувший по спине, понимая уже, что это самоубийство, решительно сорвал воззвание и, круто развернувшись, нарочито спокойно шагнул вверх — по Тверской. «Позади — тишина, — пишет. — Помоги, Господи!..» И почти сразу — крик: «Держи их, товарищи! Утякут, сволочи!..» Нащупав револьвер в кармане, Сергей и смертельно бледный прапорщик останавливаются и резко оборачиваются к догнавшим их преследователям. «Что с ними разговаривать? — орут напирающие сзади. — Бей их, товарищи!..» Сергей, уже решивший, что застрелит первого же, прикоснувшегося к нему, а потом — и себя, поднимает руку: «Убить нас всегда успеете. Мы в вашей власти. Вас много — нас двое… — и, пользуясь секундной передышкой, почти кричит: — Присягали вы Временному Правительству?» — «Ну и присягали! — кричат в ответ задние. — Мы и царю присягали!» — «Царь отрекся от престола… Отреклось Временное Правительство от власти?.. Какую же вы власть признаете?» — «Известно какую! Не вашу — офицерскую! Советы, — вот наша власть!..» И только тут в голове его мелькает мысль о спасении: «Если Совет признаете, — орет и он, не узнав своего голоса, — идемте в Совет! Пусть там нас рассудят…» Спасло и то, что Совет был рядом — в двух шагах на Тверской, в доме нынешней мэрии.
Из очерка Сергея Эфрона «Октябрь (1917 г.)»: «На генерал-губернаторский дом я рассчитывал… Я знал приблизительно расположение комнат, ибо ранее приходилось несколько раз быть там начальником караула. К этому времени вокруг нас образовалась большая толпа… прибывающие были гораздо свирепее прежних. Одни кричали, что с нами нужно здесь же покончить, другие стояли за расправу в Совете… Никогда не забуду взглядов, бросаемых нам вслед прохожими и особенно женщинами. На нас смотрели, как на обреченных… Но ни одного слова, ни одного движения в нашу защиту…»
Им повезло. Ярость толпы улеглась у порога нынешней мэрии, а тех солдат, которых пропустили, дежурный член исполкома, предложив написать объяснительные, поблагодарив «за исполнение революционного долга», отпустил. И — неожиданно улыбнулся офицерам: «Что же мне с вами делать? Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту… Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова». И, взяв конвой, не без труда не только вывел их из здания, но — посадил на трамвай…
Обо всем этом Цветаева узнает позже. А пока, летя в поезде с юга в Москву, обмирая от страха за него, напишет мужу письмо, которое дошло до нас. «Если Бог сделает это чудо, — напишет, — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…» Газеты, купленные ею на станциях, вопиют. В Москве бои, горы трупов на улицах: изуродованные тела офицеров, кадетов, медсестер, юнкеров. 56-й полк, где служит Сергей, защищает Кремль. В письме — слова Сергею, живому или мертвому: «Разве Вы можете сидеть дома? Вы бы один пошли. Потому что безупречны…» Она не знает еще, что Кремль сдан, но муж — жив. Он и сотни офицеров окружены в Александровском училище на Арбатской площади. Это — почти могила. Еще вчера он отбивал на Ходынке пушки у красных, брал телефонную станцию в Милютинском, охранял делегацию офицеров к Брусилову в Мансуровском, когда того звали возглавить войска. И вот — в актовом зале училища услышал вдруг возникшего на трибуне Прокоповича, бывшего министра. «Положение безнадежно!» — прокричал тот осажденным. В ответ — шум, гвалт, давка. Сдаваться? А может, пробираться на Брянский? На юг, к казакам? Сквозь орущую толпу к Сергею протиснулся прапорщик Гольцев. «Ну что, Сережа, на Дон?» — «На Дон!» «Мы, — пишет Сергей, — обмениваемся рукопожатием, самым крепким за жизнь». А ночью, отыскав в каптерке училища рабочие полушубки, папахи солдат и сапоги невероятных размеров, решаются на побег. На проходной Сергей нагло толкает дверь. «Стой! — кричат красногвардейцы. — Ты кто?» — «Да это, кажись, свой», — говорит один. «Морда юнкерская!» — возражает другой. Но — выпускает обоих. «Секунда, — вспоминал Сергей, — и мы на Арбатской площади»…
Через час он обнимал уже Марину. А через день, 4 ноября, она увезет мужа в Коктебель. Потом, почти сразу решит вернуться в Москву за детьми, чтобы все были при ней. Но куда там? Теперь, пишет она, «в вагонном воздухе — топором — три слова: буржуи, юнкеря, кровососы…» И — страх, ненависть, зверство, матерщина. Она ехала в Москву за детьми, не зная еще: обратно на юг ей уже не пробраться. Сбудутся слова Волошина: Россия в одно мгновение превратится в две страны — Север и Юг. На долгих три года растянется её разлука с мужем, который все-таки окажется на Дону. И ровно через три года — 20 ноября 1920 года — ее сердце вновь замрет, «окаменеет от страха» за мужа: «Убит? Жив? Ранен?..» Именно в таком порядке, помните, мелькнут в ее воспаленной голове эти три слова на премьере Таирова.
В тот день здесь, в Камерном театре (Москва, Тверской бул., 27), где в «Сирано» играл когда-то ее Сережа (об этом, кстати, поминает даже Алиса Коонен), давали пьесу Клоделя. Знаете, как называлась она? «Благовещенье»! Благая, казалась бы, весть. Но, прервав спектакль, на сцену перед задернутым занавесом вдруг шагнул режиссер и, выкинув кулак в потолок, в зазвеневшей тишине крикнул: «Гражданская война окончена! Войска Врангеля разгромлены. Остатки Добровольческой армии сброшены в море!..»
Что тут началось! В едином порыве зал встал, и из сотен глоток, не сговариваясь, грянул «Интернационал». А она?.. А она в открытой всему залу ложе прессы, одна осталась сидеть. Одна — на виду у всех. И не из обычного протеста — о, нет! От страха за мужа… Убит? Ранен? Жив?..
Ждала, ждала благой вести. Флирты, влюбленности, адюльтеры и романы — все было в прошлом. Она любила только его. Всех других (ну, не смешно ли?) назовет потом «стручками», а одного вообще — «кочерыжкой». И когда весной уже 1921 года услышит, что Эренбург едет на Запад, наугад, во тьму напишет: «Мой Сереженька! Если вы живы — я спасена. Все мысли о Вас. Умру ли я завтра или до 70 проживу, я знаю — нет на земле второго. Да я и не хочу никого, от всех брезгливо. Я знаю, у нас будет сын, чудесный героический сын, ибо оба мы — герои…»
(Продолжение следует)